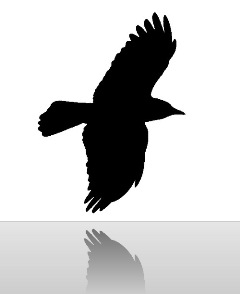Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте: мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто.
Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм.
На ногах находились кроссовки.
Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут.
Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру.
Вокруг был лес, становилось темно.
Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холодно, черное пальто не грело совершенно.
Она пошла по дороге.
 Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пассажир.
Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пассажир.
— Тебе куда?
Девушка ответила первое, что пришло на ум:
— А вы куда?
— На станцию,— ответил, засмеявшись, шофер.
— И мне на станцию. (Она вспомнила, что из леса, действительно, надо выбираться на какую-нибудь станцию.)
— Поехали,— сказал шофер, все еще смеясь.— На станцию так на станцию.
— Я же не помещусь,— сказала девушка.
— Поместишься,— смеялся шофер.— Товарищ у меня одни кости.
Девушка забралась в кабину, и грузовик тронулся.
 Второй человек в кабине угрюмо потеснился. Лица его совершенно не было видно из-под надвинутого капюшона.
Второй человек в кабине угрюмо потеснился. Лица его совершенно не было видно из-под надвинутого капюшона.
Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала, ей не хотелось ничего спрашивать, чтобы никто не заметил, что она все забыла.
Наконец они приехали к какой-то платформе, освещенной фонарями, девушка слезла, дверца за ней хлопнула, грузовик рванул с места.
Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то поехала.
Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выяснилось, не было денег: только спички, какая-то бумажка и ключ.
Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было, вагон был совершенно пустой и плохо освещенный.
Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и пришлось выйти.
Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдный, с погашенными огнями.
Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще не занесенные снегом.
Выход был только один, спуститься в туннель, и девушка пошла по ступенькам вниз.
Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, только от кафельных белых стен шел какой-то свет.
Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, неслась как во сне мимо ям, лопат, каких-то носилок, здесь тоже, видимо, шел ремонт.
Потом туннель закончился, впереди была улица, и девушка, задыхаясь, выбралась на воздух.
Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной.
В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, только дыры, а посредине проезжей части торчали временные ограждения: там тоже все было раскопано.
Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла.
Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик, шофер открыл дверцу и сказал:
— Садись, подвезу.
 Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном.
Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном.
Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было.
— Тут некуда,— сказала девушка, залезая в кабину. В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились старые знакомые.
Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, которая ее теперь окружала.
— Поместишься,— засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо.
И она с необыкновенной легкостью действительно поместилась, даже осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом, он оказался совсем худым, это просто его пальто было такое широкое.
И девушка думала: возьму и скажу, что ничего не знаю.
Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так свободно в этой тесной кабине маленького грузовика.
Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть вроде бы уродливый, с совершенно лысым черепом, и вместе с тем очень веселый: он постоянно смеялся, открывая при смехе все свои зубы.
Можно даже сказать, что он не переставая хохотал во весь рот, беззвучно.
Второй сосед все еще прятал лицо в складках своего капюшона и не говорил ни слова.
Девушка тоже молчала: о чем ей было говорить?
Они ехали по совершенно пустым и раскопанным ночным улицам, народ, видимо, давно спал по домам.
— Тебе куда надо?— спросил весельчак, смеясь во весь свой рот.
— Мне надо к себе домой,— ответила девушка.
— А это куда?— беззвучно хохоча, поинтересовался шофер.
— Ну… До конца этой улицы и направо,— сказала девушка неуверенно.
— А потом?— спросил, не переставая щерить зубы, водитель.
— А потом все время прямо.
 Так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес.
Так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес.
Грузовик мчался совершенно бесшумно, хотя дорога была жуткая, вся в ямах.
— Куда?— спросил веселый.
— Вот здесь, спасибо,— сказала девушка и открыла дверцу.
— А платить?— разинув смеющуюся пасть до предела, воскликнул шофер.
Девушка поискала в карманах и снова обнаружила бумажку, спички и ключ.
— А у меня нету денег,— призналась она.
— Если нет денег, нечего было и садиться,— захохотал шофер.— Тот первый раз мы ничего с тебя не взяли, а тебе это, видно, понравилось. Давай иди домой и принеси нам деньги. Или мы тебя съедим, мы худые и голодные, да? Точно, пустая башка?— спросил он со смехом товарища.— Мы питаемся такими вот как ты. Шутка, конечно.
Они вышли все вместе из грузовика на каком-то пустыре, где вразброс стояли еще не заселенные, видимо, дома, по виду новые.
Во всяком случае, огней не было видно.
Только горели фонари, освещая темные, безжизненные окна.
Девушка, все еще на что-то надеясь, дошла до самого последнего дома и остановилась.
Ее спутники остановились тоже.
— Это здесь?— спросил хохочущий шофер.
— Может быть,— шутливо ответила девушка, замирая от неловкости: вот сейчас и обнаружится, что она все забыла.
Они вошли в подъезд и стали подниматься по темной лестнице.
Хорошо, что фонари светили в окна и были видны ступени.
На лестнице стояла полнейшая тишина.
Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала из кармана ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке.
В прихожей было пусто, они прошли дальше, в первой комнате тоже, а вот во второй в дальнем углу лежала груда непонятных вещей.
— Видите, у меня нет денег, берите вещи,— сказала девушка, оборачиваясь к своим гостям.
При этом она обратила внимание, что шофер все так же широко ухмыляется, а человек в капюшоне все так же прячет лицо, отвернувшись.
— А что это такое?— спросил шофер.
— Это мои вещи, они мне больше не нужны,— ответила девушка.
— Ты так думаешь?— спросил шофер.
— Конечно,— сказала девушка.
— Тогда хорошо,— подал голос шофер, наклоняясь над кучей.
Они вдвоем с пассажиром стали разглядывать вещи и что-то уже потянули в рот.
А девушка тихо попятилась и вышла в коридор.
— Я сейчас,— крикнула она, увидев, что они подняли головы в ее сторону.
В коридоре она на цыпочках, широко ступая, добралась до дверей и оказалась на лестнице.
Сердце громко билось, стучало в пересохшем горле.
Совершенно нечем было дышать.
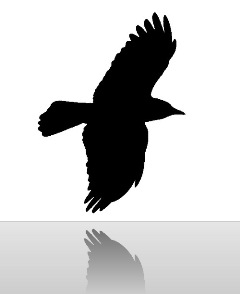 «Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим ключом,— думала она.— Никто не заметил, что я ничего не помню».
«Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим ключом,— думала она.— Никто не заметил, что я ничего не помню».
Она спустилась этажом ниже и услышала быстрые шаги наверху на лестнице.
Тут же ей пришло в голову опять воспользоваться ключом.
И, как ни странно, первая же дверь отперлась, девушка скользнула в квартиру и захлопнула за собой дверь.
Было темно и тихо.
Никто не преследовал ее, не стучал, может быть, незнакомцы уже ушли вниз по лестнице, таща найденные вещи, и оставили в покое бедную девушку.
Теперь можно было как-то обдумать свое положение.
В квартире не очень холодно, это уже хорошо.
Наконец-то найдено пристанище, хоть временное, и можно лечь где-нибудь в углу.
У нее от усталости болела шея и спина.
Девушка тихо пошла по квартире, в окна бил свет от уличных фонарей, комнаты были абсолютно пустые.
Однако когда она зашла в последнюю дверь, сердце у нее громко застучало: в углу лежала куча каких-то вещей.
В том же углу, что и этажом выше.
 Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не случилось, тогда она подошла к этой груде и села на тряпки.
Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не случилось, тогда она подошла к этой груде и села на тряпки.
— Ты что, обалдела?— закричал полузадушенный голос, и она почувствовала, что тряпки под ней шевелятся как живые, как будто змеи.
Тут же сбоку высунулись две головы и четыре руки одна за другой, оба ее знакомца, живо ерзая, возились в тряпках и наконец выбрались наружу.
Девушка побежала на лестницу.
Ноги у нее были словно ватные.
За ее спиной кто-то активно выползал в коридор.
И тут она увидела полоску света под ближайшей дверью.
Девушка опять неожиданно легко открыла своим ключом квартиру напротив и ворвалась туда, быстро закрыв за собой дверь.
Перед ней на пороге стояла женщина с горящей спичкой в руке.
— Спасите меня ради бога,— зашептала девушка.
На лестнице за ее спиной уже слышались легкие шорохи, как будто кто-то полз.
— Проходи,— сказала женщина, выше поднимая догорающую спичку.
Девушка подвинулась еще на шаг и прикрыла дверь.
На лестнице было тихо, как будто кто-то остановился и размышлял.
— Ты что в двери по ночам ломишься,— грубовато спросила женщина со спичкой.
— Пойдемте туда,— шептала девушка,— туда куда-нибудь, я вам все объясню.
— Туда я не могу,— глухо сказала женщина.— Спичка по дороге погаснет. Нам дается только десять спичек.
— У меня есть спички,— обрадовалась девушка,— возьмите.— Она нашарила коробок в кармане пальто и протянула женщине.
— Зажги сама,— потребовала женщина.
Девушка зажгла, и при мерцающем свете спички они пошли по коридору.
— Сколько их у тебя?— спросила женщина, глядя на коробок.
Девушка погремела спичками.
— Мало,— сказала женщина.— Наверно, уже девять.
— Как освободиться?— прошептала девушка.
— Можно проснуться,— ответила женщина,— но это бывает не всегда. Я, например, уже больше не проснусь. Мои спички кончились, тю-тю.
И она засмеялась, обнажив в улыбке большие зубы. Она смеялась очень тихо, беззвучно, как будто хотела просто раскрыть рот как можно шире, как будто зевала.
— Я хочу проснуться,— сказала девушка.— Давайте кончим этот страшный сон.
— Пока горит спичка, ты еще можешь спастись,— сказала женщина.— Мою последнюю спичку я израсходовала только что, хотела тебе помочь. Теперь мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут осталась. Ты знаешь — все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь, куда хочешь. Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед. Я скоро полечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слушались меня. Один раз младший плюнул в мою сторону, когда я сказала, что папы больше нет. Заплакал и плюнул. Теперь я уже не могу их любить. Еще я мечтаю полететь посмотреть, как там мой муж и его подружка. Я к ним тоже теперь равнодушна. Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура!
И она опять засмеялась.
— С этой последней спичкой выпадение памяти прошло. Теперь я вспомнила всю свою жизнь и считаю, что была неправа. Я смеюсь над собой.
Она действительно смеялась во весь рот, но беззвучно.
— Где мы?— спросила девушка.
— На этот вопрос не бывает ответа, скоро увидишь сама. Будет запах.
— Кто я?— спросила девушка.
— Ты узнаешь.
— Когда?
— Когда кончится десятая спичка.
 А спичка девушки уже догорала.
А спичка девушки уже догорала.
— Пока она горит, ты можешь проснуться. Но я не знаю, как. Мне не удалось.
— Как тебя зовут?— спросила девушка.
— Мое имя скоро напишут масляной краской на железной дощечке. И воткнут в маленькую горку земли. Тогда я прочту и узнаю. Уже готова банка краски и эта пустая дощечка. Но это известно только мне, остальные еще не в курсе. Ни мой муж, ни его подруга, ни мои дети. Как пусто!— сказала женщина.— Скоро я улечу и увижу себя сверху.
— Не улетай, я прошу тебя,— сказала девушка.— Хочешь мои спички?
Женщина подумала и сказала:
— Пожалуй, я возьму одну. Мне еще кажется, что мои дети любят меня. Что они будут плакать. Что они будут никому на свете не нужны, ни их отцу, ни его новой жене.
Девушка сунула свободную руку в карман и вместо коробка спичек нашарила там бумажку.
— Смотри, что тут написано! «Прошу никого не винить, мама, прости». А раньше она была пустая!
— А, ты так написала! А я написала «Больше так не хочу, дети, люблю вас». Она проявилась только недавно.
И женщина достала из кармана черного пальто свою бумажку.
Она стала читать ее и воскликнула:
— Смотри, буквы растворяются! Наверно, кто-то эту записку уже читает! Она уже попала в чьи-то руки… Нет буквы «б» и буквы «о»! И тает буква «л»!
Тут девушка спросила:
— Ты знаешь, почему мы здесь?
— Знаю. Но тебе не скажу. Ты сама узнаешь. У тебя еще есть запас спичек.
Девушка тогда достала из кармана коробок и протянула женщине:
— Бери все! Но скажи мне!
Женщина отсыпала себе половину спичек и сказала:
— Кому ты написала эту записку? Помнишь?
— Нет.
— Ты сожги еще одну спичку, эта уже догорела. С каждой сожженной спичкой я вспоминала все больше.
Девушка взяла тогда все свои четыре спички и подожгла. Вдруг все осветилось перед ней: как она стояла на табуретке под трубой, как на столе лежала маленькая записка «Прошу никого не винить», как где-то там, за окном, лежал ночной город и в нем была квартира, где ее любимый, ее жених, не хотел больше подходить к телефону, узнав, что у нее будет ребенок, а брала трубку его мать и все время спрашивала: «А кто и по какому вопросу»,— хотя прекрасно разбиралась — и по какому вопросу, и кто звонит…
Последняя спичка догорала, но девушка очень хотела знать, кто спал за стеной в ее собственной квартире, кто там, в соседней комнате, похрапывал и стонал, пока она стояла на табуретке и привязывала свой тонкий шарф к трубе под потолком…
Кто там, в соседней комнате, спит — и кто не спит, а лежит глядит больными глазами в пустоту и плачет…
Кто?
Спичка уже почти догорела.
Еще немного — и девушка поняла все.
И тогда она, находясь в пустом темном доме, в чужой квартире, схватила свой клочок бумажки и подожгла его!
И увидела, что там, в той жизни, за стеной храпит ее больной дедушка, а мама лежит на раскладушке поблизости от него, потому что он тяжело заболел и все время просит пить.
Но был еще кто-то там, чье присутствие она ясно чувствовала и кто любил ее — но бумажка быстро угасала в ее руках.
Этот кто-то тихо стоял перед ней и жалел ее, и хотел поддержать, но она его не могла видеть и слышать и не желала говорить с ним, слишком у нее сильно болела душа, она любила своего жениха и только его, она не любила больше ни маму, ни деда, ни того, кто стоял перед ней той ночью и пытался ее утешить.
И в самый последний момент, когда догорал последний огонь ее записки, она захотела поговорить с тем, кто стоял перед ней внизу, на полу, а глаза его были вровень с ее глазами, как-то так получалось.
Но бедная маленькая бумажка уже догорала, как догорали остатки ее жизни там, в комнате с лампочкой.
И девушка тогда сбросила с себя черное пальто и, обжигая пальцы, последним язычком пламени дотронулась до сухой черной материи.
Что-то щелкнуло, запахло паленым, и за дверью завыли в два голоса.
— Скорей снимай с себя свое пальто!— закричала она женщине, но та уже спокойно улыбалась, раскрыв свой широкий рот, и в ее руках догорала последняя из спичек…
Тогда девушка — которая была и тут, в темном коридоре перед дымящимся черным пальто, и там, у себя дома, под лампочкой, и она видела перед собой чьи-то ласковые, добрые глаза — девушка дотронулась своим дымящимся рукавом до черного рукава стоящей женщины, и тут же раздался новый двойной вой на лестнице, а от пальто женщины повалил смрадный дым, и женщина в страхе сбросила с себя пальто и тут же исчезла.
И все вокруг тоже исчезло.
В то же мгновение девушка уже стояла на табуретке с затянутым шарфом на шее и, давясь слюной, смотрела на стол, где белела записка, в глазах плавали огненные круги.
В соседней комнате кто-то застонал, закашлялся, и раздался сонный голос мамы: «Отец, давай попьем?»
Девушка быстро, как только могла, растянула шарф на шее, задышала, непослушными пальцами развязала узел на трубе под потолком, соскочила с табуретки, скомкала свою записку и плюхнулась в кровать, укрывшись одеялом.
И как раз вовремя. Мама, жмурясь от света, заглянула в комнату и жалобно сказала:
 — Господи, какой мне страшный сон приснился… Какой-то огромный ком земли стоит в углу, и из него торчат корни… И твоя рука… И она ко мне тянется, мол, помоги… Что ты спишь в шарфе, горло заболело? Дай я тебя укрою, моя маленькая… Я плакала во сне…
— Господи, какой мне страшный сон приснился… Какой-то огромный ком земли стоит в углу, и из него торчат корни… И твоя рука… И она ко мне тянется, мол, помоги… Что ты спишь в шарфе, горло заболело? Дай я тебя укрою, моя маленькая… Я плакала во сне…
— Ой, мама,— своим всегдашним тоном ответила ее дочь.— Ты вечно с этими снами! Ты можешь меня оставить в покое хотя бы ночью! Три часа утра, между прочим!
И про себя она подумала, что бы было с матерью, если бы она проснулась на десять минут раньше…
А где-то на другом конце города женщина выплюнула горсть таблеток и тщательно прополоскала горло.
А потом она пошла в детскую, где спали ее довольно большие дети, десяти и двенадцати лет, и поправила на них сбившиеся одеяла.
А потом опустилась на колени и начала просить прощения.
 Юлия Попова (Jusha)
Юлия Попова (Jusha)

 Юлия Попова (Jusha)
Юлия Попова (Jusha)